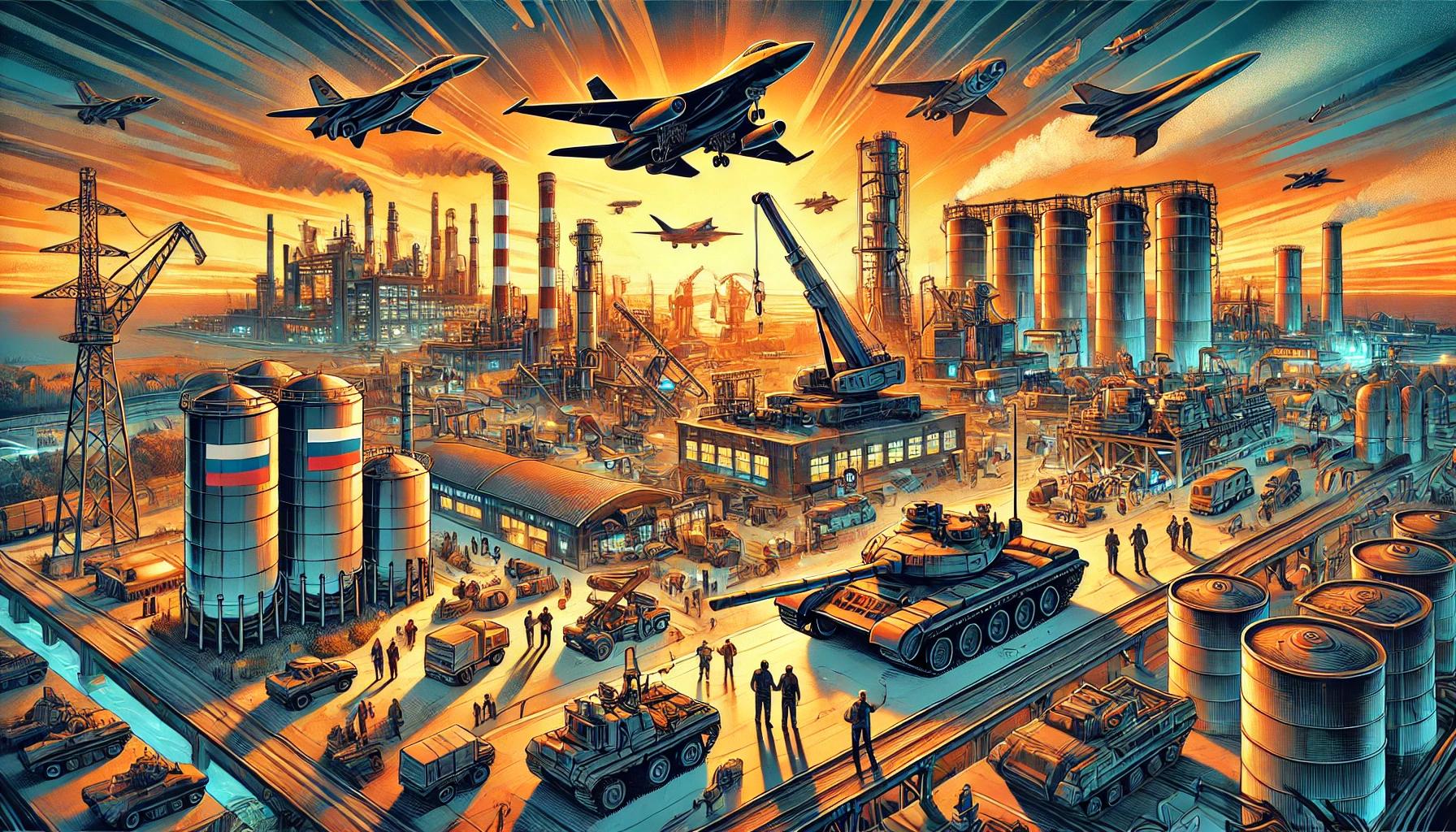На «золотых костылях». Чем реально подкреплен росбюджет
Словно корабль, потерявший во время шторма часть парусов и мачт, российская экономика, вопреки санкциям, продолжает движение вперед. Но – с заметным креном.
С 2022 года бюджетная система страны напоминает сложный механизм, где одни шестеренки вышли из строя, другие работают на пределе, а третьи и вовсе заменены кустарными аналогами. Официальные цифры рисуют картину относительной стабильности, но за сухими статистическими выкладками скрывается настоящая битва за финансовое выживание.
«Российский бюджет сегодня – это пациент в реанимации, подключенный к нескольким системам жизнеобеспечения одновременно, – поясняет экономист Кирилл Рогов. – Если нефтегазовые доходы – это искусственное дыхание, то распродажа резервов – капельница с глюкозой. А оборонные расходы – мощный стимулятор, поддерживающий сердцебиение экономики».
Нефтегазовые «качели»
Динамика нефтегазовых доходов напоминает американские горки:
- 2021 год – 9,1 трлн рублей (45% доходов);
- 2022 год – рекордные 11,6 трлн (благодаря высоким ценам);
- 2023 год – резкое падение до 8,9 трлн;
- 2024 год – около 7,5 трлн.
«Мы наблюдаем классический «эффект ножниц», – поясняет эксперт по энергетике Татьяна Митрова. – С одной стороны, скидки на российскую нефть достигают $25 за баррель, с другой – расходы на логистику выросли в разы. В итоге чистая выручка сокращается, несмотря на увеличение физических объемов экспорта».
Кардинально изменилась и структура экспорта углеводородов. Доля Европы упала с 45% до 4-5%, а Китай, напротив, увеличил закупки с 20% до 45%. Вторым по величине покупателем стала Индия (40%). Около 10% приобретают «на троих» Турция, ОАЭ и Египет.
«Это не просто смена покупателей – это полная перестройка всей логистической инфраструктуры, – отмечает главный аналитик «Совкомфлота» Михаил Григорьев. – Если раньше нефть шла по трубам в Европу, то теперь танкеры месяцами курсируют между российскими портами и азиатскими терминалами».
Налоговый пресс
В новых реалиях одним из главных доноров российской казны стал бизнес. При этом власти ввели целый арсенал новых инструментов. К примеру, вдобавок к уже существующим сборам предприниматели платят «налог на вето» (10% от стоимости активов уходящих компаний) и «военный сбор», составляющий 5-10% от прибыли крупных компаний. Кроме этого, с 12% до 20% повышен НДПИ на газ и до 20% увеличен НДС для IT-сектора.
«ФНС превратилась в настоящего финансового Рэмбо, – иронизирует налоговый консультант Артем Семенов. – В 2023 году доначислено 2,3 трлн рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом целых регионов».
С одной стороны, ничего из ряда вон выходящего здесь нет: в большинстве стран мира, не обладающих столь богатыми ресурсами, как Россия, главным источником дохода является бизнес. Да и президент России не раз призывал правительство «слезть с нефтяной иглы».
Однако новые методы ФНС иногда доходят до абсурда. К примеру, компании обязывают платить налоги с «виртуальной» прибыли: им приходят уведомления на прибыль, которую они фактически не заработали. Дело в том, что ФНС использует «расчетный метод»: если бизнес резко снизил доходы (например, из-за санкций), налоговики могут «доначислить» налог, исходя из средних показателей прошлых лет.
Даже если компания, к примеру, в 2023 году работала с убытком, ФНС может насчитать налог, ориентируясь на прибыль 2021–2022 годов. В итоге предприятия вынуждены платить за несуществующие доходы, что приводит к финансовым трудностям и даже банкротствам.
Кроме этого, ФНС начисляет налоги за сделки, которые физически невозможно совершить из-за санкций или логистических ограничений. Например, обязывает платить НДС за импорт оборудования, которое компания не смогла ввезти из-за запрета поставок из ЕС. Или требует уплаты налога на доходы с замороженных за рубежом активов.
По сути, государство фактически штрафует бизнес за обстоятельства, которые от него не зависят. «Это как выписать штраф за превышение скорости велосипедисту, у которого слетела цепь. Санкции заблокировали сделки, но налоговики этого не признают», – поясняет адвокат Иван Петров.
ФНС продолжает начислять налоги на имущество и активы, которые уже проданы, но не выведены из реестра, или арестованы за рубежом и недоступны для использования. То есть, предприятия платят за то, чем уже не владеют.
Терпение может лопнуть
Жесткая политика ФНС вызывает справедливое негодование предпринимателей. «Это напоминает средневековую практику, – возмущается предприниматель Олег Дерипаска. – Когда налоговики взимали подати с мертвых душ, просто потому, что они числятся в реестре».
Почему же налоговики так себя ведут? В первую очередь, из-за сильно обмелевших потоков поступлений от продажи углеводородов. Чтобы пополнить бюджет, выжимают максимум из тех, кто пока еще может платить. Кроме того, на налоговые службы точно так же давят сверху: власти требуют выполнять планы по сбору налогов любой ценой.
Нужно учесть и тот факт, что ФНС уже давно автоматизировала все системы сборов, а алгоритмы бездушных IT-технологий не могут учитывать реальные обстоятельства бизнеса.
Новая фискальная политика приносит результат. Но последствия для бизнеса могут быть печальными. Уже сейчас сухая статистика фиксирует рост банкротств из-за того, что компании не могут платить «виртуальные» налоги. Кроме того, жесткая позиция ФНС может попросту «выдавить» бизнес в тень: чтобы сохранить свое дело, предприниматели будут вынуждены перейти на «серые схемы».
Непредсказуемое налогообложение обязательно приведет к снижению инвестиций: сложно вкладывать деньги в предприятие, которое завтра может разориться из-за высоких налогов.
Эксперты отмечают, что политика ФНС все чаще напоминает «ловушку» для бизнеса. Если тенденция сохранится, это может привести к коллапсу целых отраслей. «Когда налоговая система начинает жить в параллельной реальности, бизнес вынужден либо смириться, либо уходить», – резюмирует экономист Сергей Гуриев.
Тающее благосостояние
Снижение поступлений от продажи углеводородов заставляет власти «затыкать» образовавшиеся прорехи в казне средствами Фонда национального благосостояния. Из-за этого его запасы стремительно «тают».
Если в 2021 году объем ФНБ составлял 183,8 млрд долларов, то к 2024-му эта сумма снизилась более чем втрое – до 54,9. Основные расходы – на поддержку рубля, финансирование дефицита бюджета, ВПК и регионов.
«ФНБ превратился в дойную корову, – констатирует экономист Евгений Надоршин. – Его расходуют не на развитие, а на латание дыр в текущем бюджете. Это как проедать семенной фонд в голодный год».
Подобно ледникам Антарктиды тает и золотой запас. В основном из-за замороженных Западом резервов (их объем – $300 млрд). Пик накопления – $643 млрд – был зафиксирован в феврале 2022 года. Текущий объем – около $580 млрд. Конечно, в сравнении с «истощением» ФНБ – это далеко не самое критичное снижение. Тем не менее, игра идет только «в одни ворота».
«ЦБ оказался в положении алхимика, – отмечает финансовый аналитик Алексей Зубец. – Он пытается превратить золото в ликвидность, но каждый такой шаг ослабляет финансовый иммунитет страны».
ОПК как локомотив
В 2024 году оборонные расходы России установили новый рекорд, достигнув 6,7% ВВП, что значительно превышает докризисные показатели. (Национальная оборона стала безусловным приоритетом в структуре бюджета прошлого года, поглотив 29% его объема (10,8 трлн рублей). Для сравнения, на социальную политику выделено 7,5 трлн рублей, или 20%). Эти средства направляются не только на закупки вооружений, но и на развитие смежных отраслей, таких как металлургия, электроника и машиностроение.
Например, Уралвагонзавод и Концерн «Алмаз-Антей» нарастили производственные мощности, создав новые рабочие места. В регионах, где расположены оборонные предприятия, таких как Нижегородская и Тульская области, наблюдается рост доходов населения и потребительского спроса.
«Оборонные расходы в текущих условиях действуют как классический стимул для экономики. Деньги направляются в реальный сектор, поддерживая спрос и компенсируя сжатие других отраслей», – отмечает экономист Евгений Надоршин из «Ренессанс Капитала».
Во многом благодаря этим мерам экономика России в 2024–2025 годах демонстрирует неожиданную устойчивость, а в некоторых секторах – даже рост. Специальная военная операция и милитаризация промышленности, несмотря на санкции, стали ключевым фактором развития.
Импортозамещение ускорилось из-за необходимости обеспечения армии. В 2024 году Россия почти полностью отказалась от западных микроэлектронных компонентов в военной технике, перейдя на азиатские и отечественные аналоги. Компания «Байкал Электроникс» увеличила выпуск процессоров для беспилотников и систем управления. Химическая промышленность нарастила производство взрывчатых веществ и композитных материалов, например, Ростех локализовал выпуск углепластика для авиации.
Успешные военные разработки, такие как дроны, могут создать новые точки роста. Например, сельское хозяйство уже несколько лет внедряет БПЛА. «Оборонка ускорила развитие гражданских технологий. Многие разработки, первоначально созданные для СВО, могут быть адаптированы для промышленности», – утверждает Алексей Портанский из ЦМАКП.
Кроме того, оборонные предприятия активно набирают персонал, а зарплаты в ОПК с 2022 года выросли на 20-30%. Это поддерживает потребительский спрос в моногородах.
В Ижевске, где находится «Концерн Калашников», уровень безработицы упал до исторического минимума. В Санкт-Петербурге судостроительные предприятия «Адмиралтейские верфи» и «Балтийский завод» увеличили штат на 15%.
«Рост доходов в ОПК частично компенсирует падение в других секторах, таких как розничная торговля или услуги. Однако такая модель несет риски перегрева и дисбалансов», – предупреждает Наталья Зубаревич из МГУ.
Уже сейчас доля ОПК выросла с 15% до 35%, а занятость в оборонке составила 3,5 млн человек. Гражданские отрасли теряют кадры и ресурсы.
По мнению аналитиков, изменения в структуре промышленности могут привести к истощению ФНБ к 2026 году, инфляции в 12–15%, технологическому отставанию и усилению налогового давления.
«Россия стоит на развилке, – резюмирует бывший министр финансов Алексей Кудрин. – Один путь ведет к стагнации, другой – к болезненным реформам. Легких вариантов больше нет».